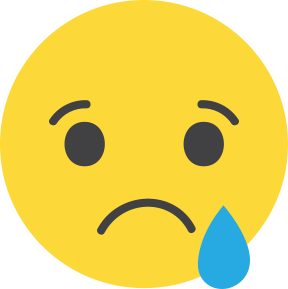Бывает, в судьбе одного человека прочитаешь историю целой эпохи. Галина Александровна Беганская — такой человек-эпоха.
Заслуженный архитектор Беларуси, смелый экспериментатор, на многие годы определивший «тренды» сельского строительства нашей страны, дочь писательницы Ядвиги Беганской, прошедшей ссылки и лагеря, и Александра Сака, белорусского поэта и священника, расстрелянного в 1937-м, она помнит историю двадцатого века такой, какой она была на самом деле.
— А дачу свою, Галина Александровна, сами проектировали?
— А-а-а, дача… Снесли ее уже всю, дачу (смеется). Внуки на свой лад перестраивают.
А это время сейчас такое, как у Чехова в «Вишневом саде», деловитые Лопахины рубят старые сады…
Да, сейчас время Лопахиных (смеется). Проект новой дачи сделал сын. Он тоже архитектор. Сейчас они с сыновьями, моими внуками, перестраивают дом на новый лад.
А так дом бы еще постоял, если бы, конечно, не фундамент. Когда домик строили, я говорю: давайте-ка возьмём специалистов. Нет! Какие специалисты? Тетин муж с приятелем решили строить сами.
И вот они поставили дом, настелили пол, поставили стол, накрыли его, налили суп — а суп-то выливается! Горка градусов в пять! Там такой уклон на участке — ну так они, не долго думая, отложили сорок пять сантиметров от земли везде и залили фундамент.
Тогда выше сорока пяти сантиметров фундаменты делать было нельзя…
— Что значит — нельзя? На собственной даче нельзя?
— Конечно. Тогда ничего нельзя было: нельзя утеплять, нельзя двойные окна ставить, печки нельзя, да и вообще — площадь шесть на шесть, от потолка до конька не больше полутора метров, в общем, целая куча ограничений, ведь при Машерове дачи считались исключительно летними домиками — и вообще нечего частную собственность разводить.
Но это детали — жизнь-то шла. Строились и тогда. Кое-как, но строились.
Дом этот, между прочим, сорок пять лет простоял — и еще стоял бы. Но что ты сделаешь — молодежь, будут новое строить, уже по своему собственному проекту. Тот был мой, а этот уже их.
По моему тогдашнему проекту, между прочим, половина домиков в нашем кооперативе построена.
— Хорошо было вашим соседям — такой серьезный специалист по сельскому строительству под боком!
— В сельское строительство я попала в общем-то случайно. Я могла пойти работать и в Белпроект, и в Минскпроект, но распределили меня в Гродно, несмотря на то, что я была уже в положении. Виновата сама — забыла написать заявление на Минск, муж мой учился еще в мединституте, бал зачетки — высокий, думала, все решится само собой, а оно не решается.
И вот сижу я такая с животиком, без заявления, и никто из присутствующих не хочет меня брать. И только Сельпроект — а идите-ка к нам.
Потом уже из других минских организаций звали — но я посчитала неправильным уходить из Сельпроекта, ведь они меня тогда, на распределении, фактически спасли. Хотя Сельпроект считался, конечно, непрестижным, да и я во время учебы занималась в основном промышленным строительством. Но уже как вышло, так вышло.
А потом Институт стал в общем-то передовым: начали строить экспериментальные хозяйства, Вертелишки, Ленино, разрабатывались новые решения, искались новые пути…
Вот, скажем, Ленино, поселок в Могилевской области, которое я проектировала. Надо было построить клуб. Тогда как было принято? Сельсовет — один домик, почта — другой домик, клуб — третий домик… Ну зачем так мельчить? Предложила: а давайте-ка сделаем и сельсовет, и клуб, и библиотеку, и почту — все, что нужно, в одном здании.
В результате — красивый комплекс полифункциональный, организованное пространство, интересные архитектурные формы. Теперь так и строят везде — много мелких служб в одном большом интересном здании.
Макет застройки площади в Ленино
С моей подачи и торговые центры стали включаться в большие комплексы — с комбинатами бытового обслуживания, магазинами, столовыми, парикмахерскими. Это и людям удобно, и архитектору интересно, и строителю выгодно.
Или вот мне всегда хотелось построить высотку.
Представляете? Сельпроект — и высотку. Решила в Ленино поставить гостиницу в пять этажей. Это было смело — но для Ленино вполне оправдано: там большое хозяйство, музей, гостей много, командировочных. Поставила. Получилась такая красивая точка в общем рисунке.
— И сложно было такие эксперименты согласовать?
— Тут, понимаете, главное, чтобы все технические условия были выполнены. И согласовать… Ну всё как-то согласовывали (смеется).
— Ой, а вот эта маленькая девочка среди огромных мужчин — это вы?
— Да, это я (смеется). Машеров как-то сказал: «Такая маленькая, а столько построила».
— А вы давно были в «своих» городах?
— Ой. Даже не хочу туда ездить. Вот мне недавно рассказали, что этот клуб в Ленино, который я вылизывала до сантиметра, до камушка, на котором была мраморная крошка — это для строителей на то время была такая серьезная проблема! — так вот эту натуральную мраморную крошку взяли и покрасили в розовый цвет. Поверх белого мрамора — розовый. Не поеду.
Гостиница в поселке Ленино — та самая высотка
— Наверное, не все нравится в и современном Минске заслуженному архитектору…
— Больше всего мне жалко Московский автовокзал. Слава богу, понимаете, что автора его уже нет в живых, и он это не видит. Здание было интересное, современное, функционально хорошо сделано, да и не мешало оно на самом деле никаким современным зданиям того же Газпрома. Зачем его снесли?
Но при всем при этом самое большое преступление против города — это гостиница Кемпински возле цирка. Это просто за гранью. Но его снесут. Обязательно снесут. Не сейчас, не при моей жизни, может, и не при вашей, но при моих правнуках точно снесут.
— А была ли у вас какая-то особенная архитекторская мечта?
— Какой-то особенной не было. Мне просто всегда нравился вот этот момент, когда по твоему проекту начинается стройка.
Ты там что-то нарисовал — и вот оно уже стоит.
Всегда интересно было работать со сложными ландшафтами — вот как в Ратомке, например, гостиница при конно-спортивной школе, видели, наверное, такое здание сложное, много радости было его проектировать и строить. Получается интересно.
— А как такой хрупкой женщине удавалось полноценно общаться со строителями? Слушались они вас?
— А как же не слушались. С той же крошкой мраморной как было. Оказалось у них, что у крошки — два оттенка. Должна быть вся белая — но где-то дает другой оттенок.
Не посоветовавшись, они положили ее как есть, вразнобой, а чтобы цвет сравнять, пятна закрасили олифой. Представляете?
— Честно говоря, нет.
— Но это же ужасно — олифой по белому мрамору! Прибегаю — а у них мат-перемат на площадке стоит, что делать, не знают. Увидели меня — притихли, конечно. Отшибали все, перекладывали заново. Ох, я и ругалась!
— Тоже матом ругались?
— Нет, я не умею матом. Бабушка моя говорила, мат к нам из России пришел, до него страшнее, чем «пся крэв», ругательства у нас не было.
— А вы сама коренная минчанка?
— Ну как коренная… У моих прабабушки с прадедушкой по отцу, Самковичей, был хутор там, где сейчас по улице Притыцкого завод какой-то стоит. Там стояла их усадьба. Прадед работал в управе на теперешней площади Свободы, так на работу ходил пешком, хотя была у них и бричка, и лошадь. Прабабушка едет в город в бричке, а дед принципиально пешком идет. «Може, пан сядет в бричку?» — «Нет, пешком».
А дед мой, Иосиф Беганский, родом из-под Борисова. Он был машинистом, очень любил железную дорогу, уехал на заработки в Россию — и там встретил мою бабушку Брониславу. Бронислава была красивой девушкой, но бесприданницей, устроить свою судьбу было ей непросто, и родственники ее присмотрели положительного, красивого мужчину-железнодорожника.
Жили они в городке Верхнеудинск, но дед все время мечтал вернуться в Беларусь.
Вернулись, построили дом — он стоял там, где сейчас Московский райисполком, в самом начале нынешней улицы Розы Люксембург.
Улица была такая «железнодорожная» — дорога рядом, работники неподалеку и селились. Я поэтому и квартиру эту получала не глядя — пусть первый этаж, пусть маленькие метры, но в двух шагах от дома, где я выросла. Дом стоял еще — там тетя жила, которая меня вырастила.
Дедушка переехал сюда, и буквально спустя месяц в газете уже появилась его фотография — лучший железнодорожник. Вернулся на родину, так хотелось ему тут работать изо всех сил… А еще через месяц…
Это вообще мое первое детское воспоминание. Ночь, у меня болит ухо, бабушка положила мне компресс, а в доме идет обыск.
В эту ночь — а улица была вся застроена домиками — на нашей улице практически во всех домах исчезли железнодорожники. Тогда случилось так: железная дорога должна была перевозить раскулаченных. Их просто сажали в товарные вагоны, этих раскулаченных, семьями, с малыми детьми, со стариками, и вывозили в тайгу. Там просто высаживали посреди леса — и поезд уезжал обратно. Зима, мороз. Ни еды, ни инструментов, ни хотя бы сарайчика какого переночевать. Понятно, что люди просто замерзали.
Мне потом рассказывали: одна семья выжила потому только, что хозяин взял с собой почему-то топор и пилу. Кое-как построили халупку — и обживались, как могли.
Так вот кто-то из наших минских железнодорожников — не думаю, кстати, что мой дед, но это неизвестно сегодня — отказался возить раскулаченных. Говорили потом, что нашлись несколько таких, кто отказался. Ах так? И в ту же ночь, просто в шахматном порядке по улице шли — и забирали. Калинин приказал за этот отказ расстрелять две тысячи железнодорожников.
Совсем недавно я читала маленькую-маленькую заметочку: в районе Каменной Горки, когда шло масштабное строительство, раскопали скотомогильник, а в нем — очень много человеческих останков. Журналистка — я не помню ее имени, в таком шоке была — подняла документы и выяснила: в этом скотомогильнике лежали кости расстрелянных железнодорожников. Их там и расстреляли.
А ведь мама моя, дочка Иосифа, Ядвига Беганская, несколько месяцев ходила по кабинетам: «Освободите моего отца, он ни в чем не виноват».
— Я читала об этом у Янки Брыля, как Ядвига Беганская пыталась спасти отца…
— Да, она пыталась, а ей говорили: «Не ходи, сама там будешь», а она все равно ходила — ну, и «там», конечно, оказалась.
Дали десять лет лагерей, Колыма. Вернулась она в 1948-м. В Минске жить ей было нельзя, поселилась в Речице. Там и писать начала — нельзя было, чтобы все это умерло, осталось неизвестным. Потом уже, после реабилитации, стало можно все это печатать. Правда, в Беларуси повесть «Далёка на поўначы» печатать не взяли. Она перевела на русский — и напечатала в Москве.
Отца, конечно, я совсем не помню. Одно только: как он завернул меня в тулуп и катал на саночках, знаете, были такие саночки, плетеные, как корзина. Ни лица его, ни голоса — ничего не помню.
Уже во время войны однажды на наш двор упала бомба. Не в дом, но очень-очень близко. Разворотила крышу, взрыла песок. И я смотрю — из песка какие-то бумажки. Раскопала. Архив отца — стихи его, рисунки. Мама, когда отца арестовали — зарыла в песок.
История их любви очень необычная. Александр Сак вообще был очень интересный человек.
Он был из семьи кузнеца, но отец хотел для сына лучшей доли и послал его в Петроград учиться. Там, в Петрограде, Сак влюбился в какую-то панночку. Любовь была невероятная. Но, конечно, без перспектив — он сын кузнеца, она из какого-то совершенно другого круга. И чтобы больше никогда не жениться, Сак уходит из Института лесного хозяйства, поступает в католическую академию, заканчивает ее в 1917-м и становится католическим священником, дает обет безбрачия.
Он служил ксендзом в Мозыре, потом в Хойниках, службы отправлял по-белорусски, участвовал в съезде белорусских священников, тогда же начал писать стихи — он частенько гостевал у Янки Купалы, дружил с Тарашкевичем, с Дубовкой, атмосфера была поэтическая… Но тут он встречает мою маму… Чтобы связать с ней судьбу, нужно было отказаться от духовного сана. Причем публично. Но Сак публично не отрекался.
Я-то вообще вышла внебрачной дочерью, потому что мама с отцом не венчались, не женились из-за всех этих проблем. А потом его забрали.
— А про Дубовку расскажите.
— Я его видела совсем немного. Я тогда на первом курсе была. Тетя говорит как-то: вечером придет старый друг твоего отца. Он возвращается из ссылки, хочет проведать дочь старого товарища.
Вечером пришел мужчина. Такой высокий, с голубыми-голубыми глазами — у моего отца, говорят, тоже были голубые глаза, и я родилась голубоглазой, отец глянул и говорит: «Ну вось, чалавечыя вочы». Тетя накрыла ужин, сидели долго, разговаривали, он рассказывал про свои перипетии — это еще хорошо, что его мытарства начались в тридцатом, потому что взяли бы в тридцать седьмом — расстреляли бы.
А вообще в этом доме всегда собирались писатели — понимаете, в доме три красивых девушки.
Бровка, например, за тетей Ниной ухаживал, Кузьма Чёрный — за тетей Галей, ну, и мама, хоть и замужем уже была за отцом, но тоже компания приятная. А потом отца забрали, тогда они уже помогать приходили.
Помню, тетя Галя ворчит: «Чего ты, Кузёмка, шел сюда (это они Чёрного Кузёмкой звали), погода же ужасная» — а он уверенно отвечает: «Да прекрасная сегодня погода, Галя, просто великолепная!»
— А оккупацию пережили здесь, в Минске?
— Здесь, конечно, в том же доме в начале улицы. Сначала, когда бомбили, ходили прятаться в соседний кирпичный дом, там хороший был подвал, потом, когда фронт ушел, бомбежки прекратились, уже никуда не бегали. Я училась в первой школе — там преподавала мама нашего художника Цвирко. Мы учили там белорусский гимн «Мы выйдзем шчыльнымі радамі», пели песенки,
«Ад родных ніў, ад роднай хаты» — учились на белорусском. Но потом учительница шепнула тетке моей, что немцы вроде как ходят, присматривают детей, кровь для фронта брать, забери Галю, и тетя забрала меня, и я уже в школу при немцах не ходила.
Поэтому по-польски я читала и писала намного лучше, чем по-белорусски или по-русски — плод домашнего бабушкиного воспитания.
— А как вам жилось потом — мать репрессирована, отец — репрессирован, как учиться, как работать?
Меня воспитывала моя тетя. Святая женщина. Благодаря ей я окончила музыкальную школу, получила высшее образование. В школе особенно вопросов не было, да и при поступлении получилось не указывать, что с родителями, но тут как-то — это я уже учусь, только-только в «Знамени Юности» появился мой портрет как отличницы учебы — вызывают меня в отдел кадров.
«На вас поступило письмо». Кадровик мне даже показал, от кого поступило это письмо. От соседа моего напротив. Мол, вот вы тут фотографии отличников печатаете, а вы бы к ней присмотрелись.
Кадровик и спрашивает: а кто у вас мама, а кто у вас отец? Я, конечно, рассказала: отец расстрелян в 1937-м, мать — арестована и сослана в 1937-м. А уже такие времена были — тридцать седьмой год уже не очень «считался». Кадровик прямо вздохнул с облегчением: слава Богу, я думал, у вас во время войны кто-то с немцами сотрудничал. Тогда бы нужно было меры принимать. А так — не нужно.
Галина Александровна с внуком Стасем Карповым
— А вы потом не пошли к соседу этому?
Господи, а зачем? (улыбается) Зачем ходить? Просто понимаешь, кто есть кто, да и все.
Жизнь продолжается. У меня очень хороший сын. Он тоже стал архитектором, наверное потому, что вместе со мной (я родила его сразу после защиты) защищал диплом.
Младший внук еще в детском саду, когда его спрашивали: «кем ты хочешь быть», тоже отвечал, что хочет быть архитектором и его мечта в этом году осуществится.
Старший внук пошел по стопам моей мамы, Ядвиги Беганской — пишет. Так что живем, продолжаемся.