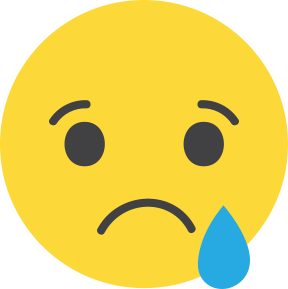Скульптурная группа Николая Кондратьева легла в основу мемориала в сожженной фашистами в 1943 году деревне Доры Воложинского района Минской области.
22 июня 1941 года нападением нацистской Германии на Советский Союз началась кровавая схватка двух тоталитарных монстров, которая обернулась для их народов многочисленными жертвами.
В этом году — 75 лет…
Сегодня в Беларуси осталось от той войны 13,7 тыс. ветеранов. В том числе, сообщает Министерство труда и социальной защиты, 9 тысяч инвалидов и непосредственных участников.
Есть в том подсчете число, на которое обращаешь особое внимание: 784 — «членов семей военнослужащих, погибших в годы войны». Почему-то министерство не сказало прямо — вдов..
В 1986-м, когда происходила история, которую я хочу рассказать, в Беларуси насчитывалось 72 тысячи вдов войны.
***
Хоронили вдову.
Место ей выпало высокое, на самой вершине голого, вздувшегося на декабрьском ветру холма, куда незаметно, исподволь наползало новое городское кладбище. «Хорошее место, сухое…» — тихо, вполголоса говорили люди, пытаясь смягчить груз скорби. «И вид хороший, посмотрите, какой вид…»
Вид был на город, в котором вдова прожила всю жизнь. Город поднимался каменными громадами, светлея в разрывах низко плывущих облаков, трубами, башнями и кранами взламывал покатую линию горизонта. За лесом, поникшим в ожидании снега, за терпеливой оголенностью мерзлых почерневших полей — тот ли это был город, который оставляла она в ночь на 25 июня 1941 года, спасая сыновей и не зная еще, какой жестокий приговор вынесет ей судьба? Или война? А может, война, которая стала судьбой?
…Умолкли разговоры, теснее стал круг, поглубже запрятали в рукава озябшие руки музыканты похоронного оркестра, обняв, словно детей, свои медные трубы. И тогда вперед вышел старший сын вдовы, приблизился к матери и положил рядом с ней что-то, завернутое в белую ткань. Заметно постаревший, он стоял, низко склонив голову, потом поднял глаза и, прямо глядя людям в глаза, глухо, но чтобы все слышали, сказал:
— Вы любили маму и должны знать, что в этом свертке. В нем величайшее ее богатство — довоенный костюм отца, земля с его могилы под Курском и письма. Он успел написать с фронта всего два письма. Но здесь много писем.
Это письма матери к отцу. Мы не знали, — голос его дрогнул, — она скрывала от нас… она писала их всю жизнь…
И сын рассказал, как после смерти матери они нашли у нее под подушкой целую пачку писем, как читали их всю ночь, себе и своим детям, потом переписывали начиная с первого, за июль 42-го, — «…не думай, что я выжила из ума, пишу тебе, зная, что тебя нет… но у меня есть твои письма, в которых ты просишь уберечь наших мальчиков и вырастить их настоящими людьми… я должна ответить тебе…» — до последнего, в котором было всего несколько, с трудом написанных слов: «…милый мой, ненаглядный, я выполнила свой долг…»
С кладбища расходились молча.
…— Ну, и как вам это нравится?
Я оглянулся, узнав в человеке, который шел рядом, представителя домоуправления, как он представился, когда накануне похорон протиснулся в маленькую дверь и поставил в прихожей венок. Не снимая шляпы, он вслух поинтересовался, кто тут самый близкий родственник, и достал из кармана какую-то смятую бумажку: «Вот тут надо расписаться в получении…» На него цыкнули, он притих, топтался в коридоре… Стали выносить венки, он двинулся к двери, но оттуда шли и шли люди, войти он не смог и, махнув рукой, пристроился в хвост процессии, медленно огибавшей на пути к автобусу длинный панельный дом. На кладбище он поехал, как я понимал, чтобы не потерять из виду «получателя», а может, и для того, чтобы попасть, если уж так произошло, на поминки — выпить с мороза и закусить.
….— Ну и как вам это нравится? Писать письма на тот свет! С ума сходят эти старики. Вот и я маме говорю, в деревне она живет, бросьте, говорю, копаться в земле, перебирайтесь ко мне в город. Так она знаете что надумала? Куда же, говорит, сынок, отец наш вернется, где он искать нас будет? Жди, вернется, когда уже более сорока лет как без вести пропал, бумага даже имеется. Что ж, спрашиваю, бумаге не верите? Не дурите, говорю, мамаша, не нарушайте этикет жизни. А она смотрит так, улыбается: почему же, говорит, не верю? Верю, в бумаге нет же того, что погиб. Знала бы, где могилка, может, и успокоилась бы. А и так случается, что и могила есть, и фамилия на памятнике, а сам жив, вот что в газетах пишут — тот нашелся, этот нашелся… Ну, думаю, дурында старая, раньше хотя бы корову держала, и то польза была, пацана подкормить. Давайте, говорю, мамаша, в город, пропишу, квартиру новую получим, на вас, говорю, льгота, как на вдову, положена. Какая такая льгота, спрашивает. Объясняю, а она, темнота, своё: зачем мне та льгота, пусть она там будет, мне бы только отца дождаться или узнать что-нибудь о нем, спокойнее умирать было бы. Умереть, говорю, всегда успеете, сделайте напоследок доброе дело, мне же, говорю, без вас, мамаша, той льготы никто не даст…
— Послушайте, — прервал я его длительный монолог, — вам разве не жалко свою маму?
— Жалко? — переспросил он. — А зачем жалеть, если она сама себя не жалеет, мучится глупостью. Жить, говорю, мамаша, надо, жить, как люди живут. А она: я ль не по-людски живу, или же кому-то мешаю? Мешать не мешаете, говорю, но пользы, помощи от вас никакой. Вон другие, кому положено, всё детям — и машины, и заказы, и дачи… Только и слышно вокруг: ветераны, ветераны… Знаете, сколько их в нашем домоуправлении? Тридцать два. А хлопот с ними!… Объявление на подъездах повесили: приходите для уточнения данных… Так только один явился, расшумелся, палкой размахался: какие, кричит, тебе данные уточнить надо? Что еще жив? — Успокойтесь, говорю, не нервничайте, данные нужны, чтобы вам заказ к празднику оформить. — Так я тебе те данные уже сто раз давал… — Ну и что, что давал? Уточнить никогда не повредит, чтобы справедливо все было. Кричи, кричи, думаю, только сам я к тебе не пойду, потому что тебе всё, а мне — ничего. И права такого — махать палкой — тебе никто не давал, у меня самого отец с войны не вернулся и мамаша — вдова одинокая. А ты — жив, и тебе — всё… Вы, смотрю, человек образованный, — повернулся он ко мне, — справедливо ли это, что мне ничего?
— Так-таки ничего, — пожал я плечами, устав уже от его путаных рассуждений.
— Вот-вот, — поджал он губы, — и мама туда же: чего, говорит, тебе, сынок, не хватает? Лишь бы, говорит, войны не было… Далась им та война… Жить надо…
Спутник мой продолжал что-то бормотать, но я уже не слышал его. Перед глазами возникла сгорбленная, худая фигура тети Зоси, ее прядь седых волос, выбившаяся из-под поношенного платка:
— Детки ж вы мои дорогие, я бы вас всех от войны заслонила…
Вокруг никого не было, только я, старый Колодинский и Николай Шешко, председатель местного сельсовета.
«Ну, тетя, — воскликнул в сердцах Колодинский, — какая тебе война?! Не будет войны…»
— «Ой, Володенька, страшно подумать, ой как страшно…» — и тетя Зося еще сильнее прижала к груди маленькие сморщенные кулачки.
…Если сойти с кладбищенского холма в город и держать, не смотря ни на что, путь на запад, можно через два или три часа попасть в небольшую деревню Бармуты. В другие, не такие уж давние, времена путь к ней был намного длиннее — старинное, обсаженное березами шоссе на Брест, рядом с которым находились Бармуты, еле вмещало бесконечный поток машин. После того как проложили олимпийскую трассу, скоростное, динамичное, движение пустили в обход старых дорог, в стороне от Бармутов. Как-никак дорога номер 1, в европейском, так сказать, масштабе. Только нет в этом масштабе указателя на проселок, по которому разошлись, разлетелись по разным концам света бармутские мужики.
Проселок на Бармуты был едва заметен среди полузаметенных полей. Розовели на морозном солнце столбы дыма над притихшей вдали деревушкой, розовел проселок, напоминая бинт, чистый, ослепительной белизны бинт, на котором выступает кровь из незаживающих ран белорусской земли.
О том, что в Бармутах живут одни вдовы, я узнал еще в Минске, в Музее войны, на его втором этаже, где посетители замедляли шаг у скульптурной композиции «Погибших ждут вечно, или Вдовы войны».
Не то слово — композиция. Я разговаривал позже с Николаем Кондратьевым, скульптором, который создал это произведение. Корчился от боли в спине — отголоска полученного под Будапештом ранения, и выражений, четыре года вырезал их из неохватных вековых лип, спиленных во время строительства новых магистралей. Он сумел вдохнуть в дерево эту боль, не только физическую — глубокую душевную боль: 216 мужчин не вернулись после войны в его деревню Высокая Грива в Кулундинской степи, пятеро — по линии отца, а по линии мамы — не счесть, три столбца фамилий на обелиске.
Ему советовали сменить название: «Почему ждут? Помнят. Так будет понятнее». — «Ждут», — настаивал Кондратьев.
Закончив работу, он отказался от гонорара Министерства культуры, попросил только о том, чтобы разместить композицию в музее, где со стен смотрят на вдов лица тех, кого они ждут…
Эту историю Кондратьев услышал случайно. Будто бы есть в Брестской области деревушка, где живут одни вдовы. Будто бы каждое 9 Мая они выходят на проселок с хлебом-солью на вышитых рушниках, читают друг другу письма с войны, которые успели получить, всматриваются в даль… Кондратьев не стал перепроверять эту историю. И правильно сделал. Будто вспышка, просветлила его душу эта история, высветила в ней затаенную боль. А я отправился в Бармуты и…
…И тетя Зося еще сильнее прижала к груди маленькие сморщенные кулачки:
— Восемнадцать пулечек в него попало, восемнадцать дырочек насчитала… И головка, вся головка побита. И как хоронила его, всё те дырочки считала… Как закрою глаза, слышу: идет мой Алёшенька, завтракать просит. Каратели же даже доесть ему не дали, пойдем, говорят, партизан. А он мне: не волнуйся, Зося, вернусь — доем…
Колодинский молчал, а Шешко, кашлянув, спросил виновато:
— Может что нужно, Софья Николаевна? Говори, не стесняйся…
— А что же нужно, Тихонович? Все есть: и торф, и дрова… и Алешка, сын, из Березы приезжает. Не знает отец, наследник у него вырос — и хороший, и трудолюбивый… Не забывает маму. Все хорошо, мои дорогие, все хорошо…
Какую же вину чувствовал за собой Николай? По случаю, какие бывают не так уж редко, мы были знакомы с ним с начала 70-х, когда, помотавшись по миру, он вернулся к матери, в родные Сигневичи, и решительно, может даже, слишком решительно взялся за осушение болот.
Посреди болота, на возвышенности, стоял хутор, а возле хутора рос огромный могучий дуб. Словно зеленый парус, написал я тогда — молодой, романтичный… Парус парусом, но хутор дотла разрушили, состарившуюся от войны вдову, которая вековала там в одиночестве, переселили в деревню, в новый дом. Но только каждое утро она приходила к своему разрушенному гнезду, по кирпичику собирала то, что осталось от печи, аккуратно составляла эти кирпичики на бывшем дворе. А потом пошла к мелиораторам просить машину, чтобы перевезти кирпичи в деревню, к новому дому.
«Зачем они тебе, бабушка? Что ты с ними делать будешь?» — «Не знаю, сынки, а все же печь была, не лишь бы что…» Машину дали, кирпичи погрузили… А спустя неделю взялись за дуб. Раз, другой… Разве что порезы от бульдозера остались на его мощном теле. Хорошо, решил тогда Николай, пусть, пусть отдыхают в его тени люди, восстанавливают силы для работы.
…— Помнишь дуб, Николай? Живет?
— Засох, — тяжело вздохнул Николай.
…Они собирались в доме старого Колодинского, бармутские вдовы, рассаживались, уступая друг другу место поближе к печи, и по всему было видно, что им привычен такой общий бабий сход. Кто подсчитает те долгие зимние вечера, когда собирались они вот так вместе, отогревали одна другую от холодной тьмы одиночества, ища одна в другой опоры, поддерживая неугасимый уголек надежды?
Нет, не все мужья не вернулись в Бармуты с войны. Дошли, отвоевав, Владимир Колодинский, Александр Шилинец, «как тень загробная» вернулся из немецкого плена Давыд Скорина…
Всё, чем были когда-то Бармуты, осталось под небом двумя скромными обелисками. Один — Мартыну Вечерко, лидеру подпольщиков, замученному в 1930-е гг. польской дефензивой. Второй — тем, кто полег под пулями карателей 2 июня 1942-го…
Обелисками остались те, довоенные Бармуты. С обелисков же и начинались они после войны, когда, собрав женщин под свое председательство в первый колхоз, Колодинский сказал: почтим память… Установили их прямо напротив его дома. И Яша, сын, не зная еще, что станет учителем, выписывал на них имена тех, кого сам видел в последний раз еще будучи шестилетним мальчиком…
Вот и собрались они вместе, бармутские вдовы. И потекли воспоминания, неторопливые рассказы о том, как жили, как работали, не разгибая спин, растили детей, ждали…
Я смотрел на Николая. Он сидел, опустив голову, мял шапку.
О чем он думал тогда, опустив голову? Не о том ли, что, каждое утро по пути на работу в сельсовет, видит на обелиске фамилию своего отца, Тихона Шешко, который погиб в 45-м в далеком германском городе Бельведер? А, может, о младшем брате своем, который умер во время войны от голода и болезней? А, может, про свою маму, про ее невыплаканные слезы?..
Вспомнился тот, из домоуправления, столичный недавний сельчанин, полный несокрушимого оптимизма. Особенно поскрипывание плотного, с претензией на моду, кожаного пальто, и гладкое, раскрасневшееся, в капельках пота лицо из-под такой же кожаной, с двумя дырочками, для вентиляции, наверное, шляпы.
Вот они, думал я, два белоруса, две жертвы безотцовщины, две жертвы войны. Один опустил голову, мнет шапку, виновато предлагает помочь… Другой же только и ждет от «мамаши», чтобы повинилась перед ним.
…Сбивался со счета, который раз загибая пальцы, Колодинский- младший, стараясь точно назвать, сколько же после войны осталось в Бармутах вдов. «Нет, — сказал, — не выйдет у нас арифметика».
Точно не выйдет. Нет такого счета, которым можно было бы рассчитаться с войной.
— А правда, — спросил я, — что вы все еще ждете своих мужей?
Протянула в дрожащей руке бумажку тетя Зуля, Софья Венедиктовна: «…Вот, здесь написано, что Кастусик мой без вести пропавший…»
А тетка Ганна, Ганна Фоминична, произнесла: «А что ж, я своего сама не хоронила… Нет у нас иной силы против войны, как только ждать…»
784…
***
P.S. Деревня Бармуты, Березовский район, Брестская область:
1940 год — 75 дворов, 405 жителей.
2005 год — 17 дворов, 26 жителей.