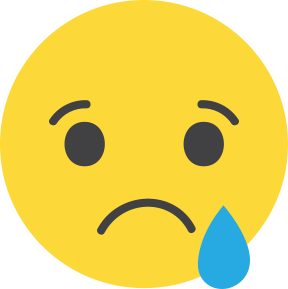«Минский роман» стоит в подзаголовке сочинения свежего лауреата литературной премии имени Ежи Гедройца.
В былые «литературоцентричные» времена можно было бы написать, что читательский мир взволнован прозой, явленной миру поэтом, получившим в последние годы большую известность в качествеШумит в основном политизированная литературная тусовка. Обсуждаются особенности процедуры премирования, справедливость решения жюри и прочее. О самом романе «Автомат с газировкой с сиропом и без» говорят мало и невразумительно. Комменты в интернете сводятся в основном или к безоговорочному одобрению («изобличил КГБ» — одна из похвал), или к утверждениям, что более высокой премиальной ступени заслуживали другие белорусские авторы.общественно-политического деятеля. Увы — нынче литературная новость не является общественным событием.
Впечатление такое, что Некляев ошарашил не только читающую публику, но и знавшую его много лет литературную среду этим романом, в котором он сам, нисколько не маскируясь, предстал в качестве главного героя.До сих пор Некляева знали как талантливого поэта, чей жизненный путь в советские времена был достаточно типичен: учеба, работа в газетах и журналах с соответствующим карьерным ростом от литсотрудника до главного редактора, награды (премия Ленинского комсомола и скромный, но
К ним, к этим событиям конца 2010 г., когда известный кандидат на пост президента Беларуси был избит, брошен в следственный изолятор КГБ, осужден, автор также обращается в своем романе. Но очень кратко и с единственной целью — связать очевидной (прежде всего кагэбистской) нитью происходившее с ним совсем недавно со своими «боданиями» с КГБ полвека назад, в начале
А на основной площади романа действует пятнадцатилетний подросток Володя, по прозвищу Князь, только что поступивший в Минский техникум связи.Этот паренек считает себя стилягой, он носит рубашку с обезьянами и попугаями,
Все реальные герои взаимодействуют с вымышленными, из коих наиболее колоритной фигурой выглядит уличный продавец газировки Соломон Моисеевич Бланк, вроде бы отдаленный родственник Ленина.Ну и, конечно, женские образы и любовные коллизии выписаны рукой поэта. Та же Ася, дочка Соломона Моисеевича, — «з зеленаватым смуткам глыбінных, у саміх сябе затоеных вачэй, над безданню якіх лунаў пажар агністых валасоў…», — на «белай сукенцы» которой также «золатам плавіўся пажар яе валасоў». В общем, не девушка, а сплошной пожар.
***
Но это, что называется, эстетические предпочтения.
В Минск приезжает Хрущев. И КГБ стряпает дело о якобы готовившемся здесь покушении на первого секретаря ЦК КПСС. Компанию подвергают допросам в том самом величественном здании на проспекте. И тут всплывают разные концы, и ведомые и неведомые самой страшной советской спецслужбе. И то, что учащийся связист Володя прячет под подушкой радиодетали, что Вил чемпион по радиоспорту, выходивший на связь с антисоветски настроенным американским сенатором Голдуотером, что убивший Кеннеди, а до этого работавший на Минском радиозаводе Освальд тренировался в тире этого завода, что оружие, которое якобы собирались использовать при покушении на Хрущева, находилось в автомобиле брата Вила, собственного корреспондента Всесоюзного радио…Главное-то в другом. В крутом замесе фактов и событий, в который попадает эта попивающая спиртное и разно болтающая претенциозная компания.
Одним словом, обнаружились такие концы, которые и КГБ не сумело связать. Только автору романа удалось. Он, правда, сам над всей этой тарабарщиной подсмеивается.
Особую потеху должна, видимо, вызывать история с выбитым зубом чернокожего студента техникума связи из Гвинеи, племянника президента этой страны и друга СССР Секу Туре. КГБ расследует ее с пристрастием, поскольку в «стране социалистического интернационализма» не может быть расовых проблем. Явная сатирическая претензия в духе «чонкинской» прозы Войновича заметна в письме Соломона Моисеевича Бланка в ЦК КПБ по поводу переноса автомата с газировкой с одного, разумеется, лучшего места на другое, худшее, и особенно — в сцене заседания Политбюро ЦК КПСС в психушке, где роли партийных бонз взяли на себя помещенные туда участники все той же
И над всеми этими хохмами и приколами, над вечерним солнцем, освещающим старую Немигу, как живописует автор в венчающей роман фразе, «плыве і плыве залаты пыл».Близкий друг автора и одновременно, как он сам характеризует себя в обширном послесловии к роману, «один из главных персонажей романа» Виктор Леденев (Вил) развивает этот впечатляющий своей свежестью образ, говоря о «золотой пыли юности». «Пусть не всё было так, как написал автор, — пишет он в том же послесловии, мемориально озаглавленном „Улица Владимира Некляева“, — но вот это: наша молодая романтика, чистота наших юношеских порывов, дружба, любовь, музыка, поэзия — всё было так. И кроме вкуса газировки с сиропом, я еще почувствовал в романе воздух того Минска — Минска начала шестидесятых…»
х х
Тут, как говорится, было бы не до спора. Кто не знает, что на вкус и цвет товарищей нет?
По сути мы имеем дело с автобиографической прозой, в которой личность главного героя, как читателю дают понять, полностью совпадает с личностью повествователя. Более того, автор послесловия Виктор Леденев свидетельствует: центральное лицо романа, пятнадцатилетний ученик техникума электросвязи Володя, — это и есть его нынешний друг Владимир Некляев.Только в
Точно определено и время основного действия романа — конец лета
Почему я говорю так определенно о временных рамках основного романного действия? Да потому что знакомство подростка Володи с другими реальными персонажами, как свидетельствует автор послесловия, происходит в августе 1961 года. А дело «антисоветской группы Хадеева» КГБ начал публично раскручивать — и это исторический факт — в начале 1962 года.
Между тем чувствуется, что, с одной стороны, автора стесняют временные рамки, от которых никуда не деться, а с другой — он очень хочет, чтобы ему поверили, что все именно так и было. Документальную иллюстрацию к эпохе призваны составить «приложенные» к роману 20 страниц реальных документов — доклада Хрущева о культе личности Сталина на ХХ съезде партии, стенограмма его же встречи с интеллигенцией в декабре 1962 г., выдержка из материалов пленума ЦК КПСС 1964 года, на котором произошло свержение Хрущева, документы о Ли Харви Освальде и другое. Хотя к собственно повествованию эти документы, которые любой желающий может сегодня найти в интернете, отношения не имеют. Но тут своя задумка: документы должны подтвердить исторический фон, на котором развертывается повествование, и тем самым свидетельствовать, пускай косвенно, о реальности основы романа. Ну и само собой
своего рода жирной печатью, удостоверяющей, что так, собственно, оно все и было, как описано в романе, является послесловие Виктора Леденева. Хотя последний и оставил лазейку — «может, и не совсем так».
«Таким образом, словно умышленно, подчеркивается явная документальность книги, — отмечает почувствовавший здесь определенный „трюк“ журналист Сергей Шапран, человек неравнодушный к белорусской литературе. — Хотя сам Некляев, приложивший немало усилий, чтобы придать ей эту документальность, категорически утверждает, что „Аўтамат з газіроўкай з сіропам і без“ — произведение исключительно художественное. И добавляет: „И нечего искать: так — не так, было — не было. Могло совсем не быть ничего, а могло быть не только то, о чем написано“. И засомневавшийся было Шапран соглашается с Некляевым, поскольку „история, как известно, не терпит сослагательного наклонения, но коль речь идет о романе, а тем более о романе Владимира Некляева,-то тут уже возможно все“ („Комсомольская правда“ в Белоруссии», 2 февраля).
Отдадим должное этому
Не имеет!
Текст, в котором реальные люди действуют в обстоятельствах, в которых они никогда не были, это не роман, а фальшивка.То, что, собственно, и получилось у Фадеева после многочисленных дописываний и подсочинений образов коммунистов.
х х
Какое отношение все эти исторические примеры имеют к роману Некляева? Да прямое!
Документальная матрица, в которой запечатлены реальные события и лица Минска началаДвигаются по сцене куклы, сидит за ширмой режиссер, дергает за ниточки. Куклы1960-х годов, обнажает механическую, искусственную основу романа «Аппарат с газировкой», которую можно обозначить как кукольность.
Смешно… Мы только прикалывались, а они „вдруг слепили“…
Кукольность изображения выросла из столкновения реальности, той правды минской жизни началаесли помнить о ранней прозе Гладилина и Аксенова („История одной компании“, „Звездный билет“). Можно было бы… Если бы не одно обстоятельство. На самом деле Некляеву (романному1960-х , что была в действительности, и текста, который можно было бы воспринять как запоздалое на полвека эпигонство,
Что общего могло быть у пятнадцатилетнего пацана из Сморгони, только что поступившего в техникум связи, с таким интеллектуальным зубром, другом Юлия Кима и Булата Окуджавы, Александра Асаркана и Павла Улитина, к тому же старшим его более чем в два раза, как Ким Хадеев?Что общего могло быть у того же пацана с человеком столь и сегодня не совсем понятной биографии (учился три года в сибирском военном вузе, затем в московском пединституте, наконец стал
студентом отделения журналистики, а не журфака, как сказано в романе, филологического факультета БГУ, после окончания которого, несмотря на исключение из комсомола якобы за участие в хадеевском кружке, был тем не менее оставлен в аспирантуре, а потом по линии ГРУ отправлен на разведывательную работу во Вьетнам), как Виктор Леденев,со старшим Некляева на десять лет актером Горячим, да и другими людьми, входившими в круг Хадеева? Это были разные миры — мир техникумов и ПТУ и круг Хадеева.
Романный Володя говорит, что у него были две компании. Одна — из незамысловатых парнишек, друзей по техникуму, вторая — из кружка Хадеева. Но была ли она, вторая компания?Не случайно, наверное, оговорился Леденев в послесловии — „пусть все было не так“, сделав упор на главном достижении романа — „воздухе Минска
х х
Так о чем, собственно, речь? О несоответствии художественного текста неким историческим реалиям? А как же быть с правом художника на переосмысление реальности, даже на углубляющий и развивающий ее вымысел?
Ах, если бы все претензии заключались только в том, что не мог Никита Хрущев, будучи в 1962 г. в Минске, поздравлять трудящихся с
Если бы дело было только в том, что ну захотел Некляев придумать себе если не героический, то, конечно,Как же? Да, был стилягой! Но и это теперь сойдет почти за диссидентство! А уж с какими людьми общался — от Освальда до Эдди Рознера! В общем, грех был бы невелик. Сколько писателей напридумывало себе биографий! Ну будет одним больше. Как говорит сам Некляев о своем романе — неважно, в конце концов, так ли все было или не так.вольнолюбиво-романтический ранний период биографии.
„Лужей на ковре“ назвал Виктор Леденев „все то, что придумали с „антисоветской группировкой“ белорусские гэбэшники“.
Оказывается, два года ленинградских „Крестов“ и тюремной психбольницы Кима Хадеева, мордовский лагерь Эдуарда Горячего, исключения из институтов других членов хадеевского кружка, сломанные жизни — это всего лишь „лужа на ковре“?Впрочем, для автора этого определения, спокойно продолжившего учебу в университете, несмотря на исключение из комсомола, в котором он, по собственному признанию, не состоял, вполне может быть… А вот для других… По словам
х х
Да, был Минск начала
И все это было не „приколами КГБ“ и „лужами на ковре“, а реальной драмой реальных людей.И тем событиям еще есть свидетели. Но об этом не говорится в романе Некляева. Место занято письмами Соломона Моисеевича в „инстанции“ насчет автомата с газировкой и историей с выбитым зубом чернокожего учащегося техникума связи. Таков выбор автора…
„Кто среди нас стукач?“ — вот главный вопрос всех наших обсуждений. Его задает и автор романа…» — пишет в послесловии Виктор Леденев. Но если Виктор Иванович Леденев и может задумываться над этим, то не думаю, что такое право есть у автора «Автомата с газировкой». Он ведь, по правде говоря, ни при чем. Хотя, понятное дело, хочется быть причастным к
***
Но оставим вопрос, кто был стукачом в «деле Хадеева», историкам. Меня же, как литературного критика, больше интересует литература. И вот думаю:
что если бы вместо собрания разных приколов и хохм, демонстрации своей близости к убийце Кеннеди и участникам театрализованного покушения на Хрущева в Минске Некляев написал роман о том, как мальчик из Сморгони становится поэтом, любимцем властей, комсомольским лауреатом,который от лица советской молодежи выступает на XXV съезде КПСС, одновременно возглавляет журнал и газету, будучи главой союза писателей, терпит поражение в борьбе за «близость к телу» Хозяина Беларуси, бежит за границу от преследований врагов, затем встает во главе никуда не движущегося движения «Говори правду», ну и далее — Площадь, избиение, изолятор КГБ, суд, политическая слава, превышающая литературную… Только чтобы без приколов. Всю правду, как вроде принято в его «движении». Да за такой роман могли бы не то что «Гедройца» — «Нобеля» дать. На которого автор «Автомата с газировкой», впрочем, уже выдвигался…
Что же до послевоенного Минска с его экзотической топографией, в которой смешались старина и сталинизм, с его весенними запахами и романтическими чувствами его молодых жителей, с его истинными драмами, то, может быть, читатель найдет многое из этого в романах покойного Александра Станюты «Городские сны» и «Сцены из минской жизни». Автор был истинным сыном своего времени и своего города.
Я не противопоставляю написанное Некляевым и Станютой. Это просто разные книги. Еще и потому, что одна обязательно попадает в лист премии Гедройца. Кстати, ну никак
не вяжется у меня раскрашенная псевдоэкзотика некляевского романа с именем человека, которого в Польше уважительно называют Редактор.В этом наименовании с большой буквы издателя и публициста, выпускавшего под Парижем, в местечке
А еще через день, 7 марта, в «Комсомольской правде» в Белоруссии» появилось обширное интервью сЧего теперь стоят мои пассажи, если свидетельствует самЭ. Н. Горячим , в котором, в противовес моему еще не опубликованному, но словно прочитанному тексту? содержится утверждение, что Некляев входил в кружок Хадеева, хотя и был «значительно моложе».
Получается, не тот в романе Некляева изображен человек. Тогда зачем все эти рассказы о верно схваченном «духе и жаре времени»?Остается только порадоваться за
Теперь, опасаюсь, не то…