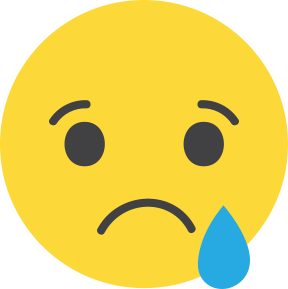Мария Ровдо дебютировала своим первым рассказом в 18 лет: тогда, в 1993-м, Сергей Дубовец сразу же поставил дебютное произведение на первую полосу «Нашей Нивы». «Вырві гэта з мяне» [«Вырви это из меня»] назывался рассказ. Спустя 22 года после дебюта у Ровдо вышла дебютная книга «Клінічны выпадак, альбо Дарэмныя ўцёкі» [«Клинический случай, или Напрасный побег»].
С 40-летней писательницей беседует Тихон Чернякевич.
— Мария, как произошло, что после замеченных выходов на публику в 1990-х и начале 2000-х в «НН» и «ARCHE» вы молчали. Пожалуй, не ошибусь, если скажу, что имя ваше читателю белорусского прозы не скажет ничего. Это был сознательный выбор — писать в ящик стола — или дело в неприятии литературного процесса?
— Многое влияло, менялся прежде всего сам стиль. Первоначально это была лирическая проза, потом мне стало интересно писать психологически заостренное, а потом и сатирически-критическое. Была учеба в аспирантуре, написание и защита диссертации, что надолго затянулось, преподавание в лингвистическом университете. В конце концов, я вышла в декретный отпуск, растила ребенка. Хотя, надо сказать, что дети скорее помогают писать, чем мешают. Ведь ты сидишь дома, фактически никуда не выходишь, у тебя строгий режим, а когда ты на работе, то появляется тысяча разных дел, отвлекающих моментов.
— В какой степени книга будет неожиданной для читателей, которые узнали вас в 90-е, много ли для них будет нового?
— Думаю, книга будет довольно новой. Например, из трех повестей две нигде абсолютно не печатались. Наконец, последние рассказы, начиная с «Волколака» и далее по содержанию — тоже новые вещи. В ранних рассказах это был скорее поиск себя через любовь, поиск того, как и в чем мне реализоваться. В рассказах из книги основное — как я уживаюсь с этим социумом, что меня привлекает, что мне в нем не нравится; здесь ли мое место или мне надо куда-то уходить отсюда; как меняется город, меняется жизнь, люди? То есть здесь, в этой книге три модели мира, которые переходят один в другой и меняются одновременно со мной из 1990-х в 2010-е: лирически-философская, социально-психологическая… Что меня сейчас волнует больше всего — нечто совершенно новое. Сейчас мне хочется знать, почему все так сложилось. И где мои корни.
Например, в повести «Черная линия» я в некоторой степени моделирую мир героев — каким он был и каким он мог бы стать. Например, выпускники Виленской белорусского гимназии, о которых я там пишу: кто-то из них вошел в историю Беларуси, их все знают, кто-то был репрессирован, кто-то погиб на войне, кто-то уехал в эмиграцию. Но о многих мы не знаем вообще ничего.
— Сейчас много говорится о гендерной составляющей в литературе, о том, возможна ли женская проза как таковая. Читали ли вы, ожидая выхода своей книги, рассказы Евы Вежнавец, Елены Браво? Ощущали ли вы себя частью «женского литературного процесса»?
— Не скажу, что я читаю всю белорусский литературу. Скажем, я очень ценю произведения Евы Вежнавец, но скорее знаю ее по ранним публикациям и мало что могу сказать о ее последней прозу. Гораздо больше на меня повлияла Сью Таунсенд, об этом я могла бы говорить охотнее.
Женщина-героиня мне интересна через анализ психологии. Если будет социальная критика, то обязательно с иронией. Я смотрю: вот есть такой человек, вот такой характер, судьба определенным образом развивается — вышла девушка замуж или не вышла, например. Муж, семья, дом — типичная история. Что она в этом находит или не находит? Как на нее влияет эта ситуация или не влияет? Получает ли она самореализацию в этом как человек или нет, в каких моментах? Тогда получается то зеркало, в которое можно смотреться. Или черно-белая фотография, которую можно рассматривать и читать характер, не отвлекаясь на цвет.
— Как читаешь последовательно — начиная с рассказов первой половины 1990-х, понемногу двигаешься дальше, то невольно чувствуешь изменения в методе письма. Можно сказать, это постепенный уход от усложненного модернистского синестетического письма, с последующим углублением в рефлексию, за которой достаточно трудно бывает сконцентрироваться. Повести из книги — это скорее семейная сага, это предания рода, фамильное дерево. С чем в литературе вы сами себя связываете, с какими «мировыми фамильными деревьями»?
— Началось это с Лицея при БГУ. Там хорошо преподавали литературу, на то время — утраченную, скрытую, потерянную, возвращение которой и происходило в первой половине 1990-х. Потом был Лингвистический университет, замечательные курсы английской литературы. Это был и Моэм, и Вирджиния Вулф, и Фаулз, и Джойс. Диплом я писала по Джойсу. Тогда даже думалось: зачем писать, когда все уже написано, все слова разобраны и нечем уже воспользоваться. Конечно, первоначально для меня важно было пытаться писать так, как не писали другие. Вжиться в текст, в характер, где-то употребить вместо глагола метафорическое действие, создавать картину чистыми красками, если сравнивать с изобразительным искусством. Поэтому были важны и модернисты, и живописцы, я думаю сейчас о Селещуке, Бущике, вот такой метод.
— Когда вы говорите, «не писать так, как другие», то говорите о мировой литературе или все же о белорусской 1980-х — 1990-х?
— Скорее о литературе вообще. Что касается белорусских авторов, то на тот момент я очень ценила Василя Быкова, который и сегодня стоит для меня рядом с Сартром. Я считаю, что это примерно тот же уровень. Для белорусской литературы великая честь, что есть такой автор. Затем это Янка Брыль, который по художественным средствам, по смелости, по психологизму, также непревзойденный автор. Это и Михась Стрельцов, который и новые темы вводит, и ставит новые вопросы, например: кто я — художник или ремесленник?
Именно в лицее я прочитала рассказ «Швэдар» [«Свитер»] Владимира Степана. Поразилась. Мол, ничего себе, и у нас есть литература с человеческим лицом. Ну и потом, конечно, это был Глобус. Не знали раньше интернета, мобильных телефонов, ничего, только книги. И, помню, еду куда-то далеко за границу и что беру с собой — книжечку стихов Глобуса.
Если говорить о белорускости, то у меня никаких вопросов не возникает. Я видела тогдашних городских авторов, мы встречались, общались по-белорусски. И в семье это было естественным. Мой дед, дирижер Виктор Ровдо, учился в Вильне до войны, а бабушка Софья Воеводская, его жена, вообще окончила Виленскую белорусскую гимназию. Они и между собой разговаривали на нескольких языках — по-белорусски, по-русски, по-литовски, по-польски, а когда выясняли отношения, то переходили на латынь, чтобы мы их не поняли и не наслушались чего не надо.
В общем, за белорусский литературу можно не волноваться. Прочитаешь, например, Сергея Балахонова «Зямля пад крыламі Фенікса», и сразу понимаешь, что наша литература не стареет, она не будет такой, какой она была. Все изменилось, и мне это очень нравится.
— Сейчас дебютных книг выходит немало, есть даже престижная денежная премия имени Максима Богдановича. Во времена вашего первого прорыва в литературу, в начале 90-х, в такой степени поддерживать совершенно молодых авторов было не принято. Тем не менее в 17 лет вам удалось напечататься у Дубовца в «Нашей Ниве». Расскажете, как это получилось?
— Это вообще-то вышло случайно и мистически. Тогда мы дружили с Северином Квятковским, у его отца Александра Квятковского я занималась живописью. У нас была веселая компания, и Северин тогда постоянно рекламировал «Нашу Ниву», везде с ней ходил, поэтому, конечно, и я начала вслед за ним читать. Надо было ходить на проспект, там стоял знаменитый киоск, где продавалась белорусский литература, газеты. Это был целый ритуал — прийти на проспект и купить свежую «Нашу Ниву».
И вот я написала рассказ «Вырві гэта з мяне». Не знаю, что меня подбухторило, но отправила текст на адрес «Нашей Нивы», без фотографии, без каких-либо сведений о себе. Была весна 1993 года, никакого отзыва не последовало, да я уже и забыла о том. И вот как-то осенью идем мы с подругой, ритуально покупаем «Нашу Ниву», между прочим, для того, чтобы почитать новую статью Северина Квятковского. И вот, я, значит, развернула газету, читаю Северина, и тут мне подруга говорит: «Слушай, а Мария Ровдо — это не ты?» — «Ну да, я». — «Так а «Вырві гэта з мяне» ты написала?» — «Ну я, а почему ты спрашиваешь?» — «Так ты же на первой странице!»
— Минута славы!
— Да, действительно. Это был своего рода аванс на будущее. Здорово, если есть люди, которые поддержат в самом начале. Глядя на нынешних 30-летних, видишь, что появился целый слой людей, и они уже настолько много сделали, выпустили книги. И все это качественные вещи, без проходных текстов. Это очень радует, большая работа делается.
— Теперь, после издания «Клинического случая», основательного, можно сказать, исчерпывающего подведения итогов, чем живет Мария Ровдо? Пишется ли что-нибудь?
— Новое пишется. Возможно, в итоге выйдет что-то крупноформатное, по крайней мере, пока что разрастается и разрастается. Идея такая: как из прекрасного создания, девочки-Ядвиси колосовской, вырастает постсоветское женщина-чудовище. Как это все получается? Как такое вообще может быть? Мы забываем часто о проблеме эмоционального насилия — о том, что нельзя толком проверить, о чем трудно бывает рассказать в суде. В чем причина эмоционального насилия — в социуме, в истории, в родословной. Остались ли все-таки у нас потомки шляхты, или несем мы на себе грехи предков? Вот примерно такие вопросы меня волнуют сейчас, когда я пишу новую вещь.