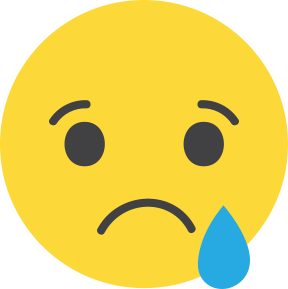Клавдия Александровна Скопец родилась в 1935 году и провела детство в землянке среди болот Пуховичского района. Ее родную деревню Омельно в 1944-м сожгли немцы. Ее история — эхо тысяч историй наших бабушек, на чью жизнь та война наложила вечный отпечаток.

Однажды вечером мы играли, бегали. Собрался народ, и председатель сельсовета объявил, что началась война. А что мы понимали? Я помню, мне мама сшила платье — зеленое, на нем звездочки. И вот меня все девочки дразнили: когда немцы придут, они тебя заберут, у тебя звёздочки, значит ты коммунистка. Так я не носила это платье, боялась.
Легли мы спать, рано утром наши родители пошли на работу. А на мотоциклах немцы со Слуцкой дороги приезжают. Один — на машине крытой, раньше такие назывались «козлы». Как сейчас я того офицера помню: здоровый, мордатый, сидит, а рядом с ним овчарка такая, как волк. Машина остановилась у нашего дома, он был очень большой — 8 метров шириной, 18 длиной. А эти немцы все бегали по дворам: матка шпэк, матка яйко — сало им, яйца давай. К нам во двор они не заходили, не буду говорить. Может, потому то родителей дома не было, были только мы, малые. Нас у папы, у мамы было трое, три дочери: 1933-го, 1935-го и 1939-го годов рождения.
Вскоре начались партизаны. Говорили, еврейский партизанский отряд. Они ходили, когда вечер наступал. Нашего соседа одного убили, потом другого убили, четверо детей осталось, потом третьего убили — тоже четверо детей. Через дом от нас жил сапожник, и несколько дочерей у него было. Одна, Наташа, как хохлуха — такая красивая, волос черный… И, видно, они требовали у него сапоги или чего еще — то они его дочь взяли, к стенке поставили и убили, 18 лет было. Эти соседи тогда, видимо, испугались — бросили все, уехали в Марьину Горку.
Наши родители боялись партизан: мало кто что скажет или что им вздумается: придут и убьют. Поэтому мужчины уходили на речку зимой. Там ловили вьюнов всю ночь, а под утро возвращались. Нас, детей, оставляли с мамой. Как только вечер, стемнело, то в двери «тук-тук». Мама лампу керосиновую зажжет и пойдет открывать. А было же тогда у мамы шерстяных платков! Мама связала большой хороший платок, полтора на полтора метра. Пиджачков же не было, так меня мама в этот платок наряжала. Я любила наряжаться и так с мамой ходила гулять повсюду.
Мама на ночь завязывала платки на нас с сестрой и укладывала спать. Я еще и в чулках спала: сама себе их связала — лет с пяти научилась вязать — только что пятки уже порваны были. Пришла женщина, раскрыла нас, сняла с меня эти чулки, сняла платки. Я плакала, сестра плакала, а они, раз, сорвали, сняли все и забрали.
Знаете, я эту женщину запомнила. Пальто ее и беленький беретик, невысокая, с круглым лицом. Она от нашей деревни в 17 километрах жила. И когда я пришла на работу в 1952-м на Тракторный завод, я ее в цехе узнала. Я говорю: «Вера, ты была в партизанах?» Она: «Да-да, была». Я говорю: «А не ты ли у меня платок отобрала?..» Ну и что ей, разве счастье было? Вышла замуж, муж умер, а сама на мусорной свалке потом померла.
Немцы в Марьиной горке открыли свой гарнизон. А через неделю или сколько-то пришли к нам в Омельно. Открыли гарнизон в нашей двухэтажной школе. Новая хорошая почта у нас открылась. Немецкий почтальон, начальник почты и жена его — тоже немцы.
Приезжал не наш какой-то, специальный человек, следил, чтобы дорога чистой была, чтобы канавы были ппрокопаны, чтобы всё убирали, подметали, травы чтобы не было.
Немцы всем командовали. У нас была соседка через два дома, Зоя, из Минска приехала в беженцы, удрала с двумя детьми (муж ее офицером в армии был, так и не вернулся с войны). Ей сказали идти немцам еду варить. Что ей было делать — приказали — готовила. Ну а ночью пришли партизаны и убили ее.
Открылась школа. Моя первая учительница Ольга Максимовна была из соседней деревни. Она заходит первая в класс и с ней входят на урок два полицая. И не здоровались, а только так брали под козырек: «Жыве Беларусь». И мы встаем: «Жыве Беларусь». Сказали, развернулись и уходят. Бог их знает, зачем они приходили. А она уже начинает урок.
В Омельно была новая большая ветлечебница. Партизаны первым делом сожгли лечебницу, чтобы немцы там не могли своих лошадей держать. А тогда окружили всю деревню, зажгли школу, где полицаи поселились, и ни один не удрал — всех убили. Немцев, полицаев — всех.
Одна только осталась жива — жена начальника почты. Спряталась в припечке! Все удивлялись, как она залезла в этот припечек, такая толстая? Вот она одна осталась жива. А у нас сосед ветврач был. Как стали стрелять, он испугался, стал убегать в лес — и его застрелили. И еще двоих так. [События, вероятно, происходили в конце сентября 1942 года. — НН]

Клавдия Александровна (крайняя справа) с мамой и сестрами.
После того как немцев сожгли, мы боялись в деревне оставаться. Соорудили вышку высокую и наши родители на ней дежурили. Если видят, как из Марьиной Горки что-то едет, кричат: «Немцы!» Тогда родители за нас — и в лес бегом.
Однажды так ехал генерал Власов. Остановился как раз в нашем дому. Наша соседка единственная в лес не удрала. Они ей говорят: идите, скажите им, мы их не тронем, пусть возвращаются. Она знала лес, знала, где мы прячемся, и все нам передала. Мужики посовещались и решили: пусть жены с детьми идут, если их трогать не будут, тогда и они придут. Ну и пошли мы. Власов вышел навстречу, высокий, но худой. На нем кепка черная и очки в черной оправе. Мы заходим в дом, а на печке у нас сидят мужик с бабой, неизвестные, они с Власовым вместе на телеге ехали. Власов нам по шоколадке дал: «Детей накормить и на печку — обогреть». Эти старики накормили нас картошкой, капустой. И еще целое корыто чищенной картошки оставили.
Они у нас переночевали и на следующий день поехали. Ничего не тронули. Мама, когда убегала в лес, схватила соль — она в блюдечке на столе стояла — обернула его в тряпочку. И в снег. Так те дед с бабой говорят: мы ваше блюдечко с солькой положили на печку, посушили…
Ничего у нас не взяли, никого не убили.
Наши родители все равно боялись, что нас немцы сожгут. И мы всей деревней перебрались в лес к партизанам. Устроили землянку на две семьи: сосед с четырьмя детьми и нас трое детей, мама, папа и бабушка. Делали себе норы. Как встанешь из них, воды по колено, и ужи ползают.
Через болото от нас партизанский отряд был. Родители ходили на поле: надо же обрабатывать, сеять, пахать, кормиться. Поле было километров в пяти от нас. А мы одни оставались. Они говорят: вы бегайте здесь, а если кто чужой будет идти, то говорите. И уже если где чужой, то мы бежим и говорим: идет незнакомец. Раз, помню, мы бегали в таком месте, называется Кононова полянка, там горка, лес, настолько красивое место. Мы себе на шапки крестиков попришивали, играли, мол, одни партизаны, другие немцы, и кто кого победит. Кричим «Ура-а-а! Ду-ду-ду-ду-ду…» Тут как прибежали партизаны! Они же думали это немцы пришли! Как стали нас ругать да по заднице нам надавали!
Ну и приказали, чтобы мы больше так не делали.
Потом мы переселились поближе к полю. Там построили себе отдельную землянку. И партизаны переселились вместе с нами, построили мельницу, ток. Все строили под елочками, чтобы с самолетов нас не было видно.
Самолет летит — я и сейчас не могу этого звука переносить — они такие тяжелые летели: у-у-у-у-у. Уже мы, дети малые, знали по звуку, когда он легкий, а когда нагруженный бомбами.
Партизаны, бывало, у нас ночевали: мы утром встаем, а они на наше место идут спать. Из Мурманска была девка-радистка. Потом парень-сибиряк, высокий, здоровый. Говорили, что он как под Марьину Горку подъедет, и если немцы идут, он тогда как из автомата застрочит, то немцы испугаются и обратно вернутся. Но все-таки его там и убили.
Все ходили на работу в поле, и я уже потом ходила. Сама научилась быстро жать, палец сильно порезала пару раз. А чем лечить? Так кривой и остался.
Мы так и жили, обрабатывали поле. А тогда приехал немецкий отряд и стали нашу деревню палить. Всю сожгли, ни одной заборинки не осталось. И соседнюю Рябиновку, и Остров — все сожгли.
Соседа нашего сестра приехала перед войной из Ленинграда. Она была одинокой, и не захотела вместе со всеми уходить в лес. Так эту женщину тягали по всей деревне и допытывались: «Где партизан, где партизан». А ей откуда знать! Они ей руки выкрутили, глаза выкололи, звездочки повырезали и бросили в огонь. Не там, где она жила, а в чужой сарай.
Мужчины залезли на сосны, на березы и всё видели, как жгли наше село.
Мы приходим первый раз в деревню после этого, я говорю: «Мама, мама, где наш дом?» А лишь одни печки стоят. Потом мы там уже сажали гряды: морковку, картошку, свёклу.
[Деревни в Пуховичском районе были сожжены в июне 1944-го. — НН]

Родители Клавдии Александровны.
Спустя какое-то время говорят: будет блокировка, будут немцы партизан в лесу убивать. Собрались наши мужики: мы сдаваться не будем, если найдут нас, мы в речку — и с детьми утопимся. Я подслушала, как они это говорят. Я сильно любопытная в детстве была, мне все было интересно.
Все партизаны пошли в болота, потому что немцы боялись болот. Как только стемнело, пошли и мы. Решили перевести дух, присели на грядке на нашей. И тут слышим: немцы. Папа схватил мою сестру, и мы в болото сиганули. И только пули — жих! жих! И папа кричит мне: «Клава, давай, гнись, гнись!..» Пули надо мной свистели одна за другой.
Дошли до канавы с очень топким дном. Мы перешли, а папа с моей сестрой Ниной стал тонуть. Уже только головы их видны остаются. Тогда мужики подскочили, папа схватился за трос, потом еще что-то связали и вытащили их. Переждали, пока немцы перестанут ходить, и переплыли на другой берег речки в лозняк, в камыши. Нас папа усадил в олешник и мы сидели — не шевелились. Папа тростинку оторвал, мы через нее воды потянем, подсосем. Мама захватила сухарей — их погрызем чуть-чуть. Так и сидели несколько дней.
А потом подползает партизан, говорит: «Александр Петрович, немцы отступают, красные наступают». И всё, назавтра немцы отступили.
Мы сразу пошли к своему огороду, а потом к землянкам. Знаете, все землянки сожгли дотла. Ничего не осталось. У нас был сундук, мама туда сложила подушки, одеяла, постилки — мы его внесли в самое болото — все сгорело. Но в толк не возьму и никто мне не ответит: почему лес не загорелся? Это чудо какое-то. Я говорю, наверное, Божья воля на то была.
Пошли мы на дорогу красных встречать. Нет их. Назавтра снова пошли. Нарвали цветов полевых, дорожку усыпали этими цветами. Ждали-ждали. И спать хотелось, и есть. Наконец идут. Первой кухня ехала полевая, а потом все остальные. Мы им цветочки даем, а они нам конфеты или печенье какое-нибудь кинут, а мы в траве бегаем и собираем это печенье, хоть бы кому-то что-то урвать.
Мы, наверное, до часов пяти утра так стояли, целый день и всю ночь их встречали, а потом уже устали и где-то уже уснули. Тогда же у нас ничего не было: где ляжешь, там и будешь и спать.
Разведка шла отдельно, через леса, и по пути поймала трех немцев. Мы как увидели тех немцев — бегом оттуда! Они кричат: нет убегайте, не убегайте, свои, свои! Мы вернулись. Они немцам говорят: в плен сдаетесь? Нет, не сдаемся. Ну что они будут с ними делать? Одного, другого, третьего — прямо при мне и убили.
Рядом подростки бегали, лет по 14-15, им говорят: возьмите и похороните немцев. Они взяли одного, офицера, за шинель и тащили по дороге метров триста, наверное. Тащили, а я за ними шла. Там у нас есть поворот на кладбище и три березки стоят. У тех березок выкопали яму и похоронили. А потом, наверное, те подростки уже не захотели этим заниматься, тогда взрослые мужики уже постарались. Второго немца дядя мой в конец деревни отвез, под грушей похоронил, а третьего под березой.
У нас было такое место Дубовый Стан, там собрали всех наших мужиков. На четвертый день после освобождения их всех погнали на войну. Помню, как они уходили: собрались, выпили и запели «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина».
Кто был в партизанах, тех не брали. А которые не были — всех забрали. Все они в Польше и погибли. Вернулось с нашей деревни четверо, в том числе и папа мой.
Они освобождали Польшу и форсировали Одер. Папа был минёром, он первым шел. Вот разминировали, начинают строить мосты. Тут немцы как дадут, всё разобьют и всё заново начинай. Папа говорил, этот Одер был — одна кровь.
Папа дошел до Берлина. После того как освободили Польшу, разминировать дальше было нечего, и папу поставили поваром. Он хлеб пек. Говорил, сапогами, ногами месил — где же ты столько теста руками намесишь. Жалел он тех бедных немок и их детей. Как наливают еду, стоят эти детки с железными мисочками. Отец рассказал: «Я им показываю: еще раз становитесь в очередь, и думаю: мои же детки где-то там голодные сидят». Разве же дети виноваты?

Отец Клавдии Александровны (слева), 1944 год.
Папа говорит: тогда разрешалось к немцам в дома заходить и брать все: хоть коров, хотя золото, ткани какие всякие — всё. Но они хитрые были: всё заминировали, и наши как только брались за что-то — подрывались. Мамин брат так пошел за коровкой — подорвался на мине. А может быть, и не брал бы, и не гнал бы ту корову — и не подорвался бы. Многие смелые были, набрались всего. А папе как в начале дали подушечку маленькую такую, переспать, ложку и вилку — так он с войны и пришел.
Мой папа верующий был. Никогда не ругался, никогда ничего не брал. Может, поэтому он и вернулся.
Когда папа на войне был, мы вернулись из лесу. Стали жить в воронке, которая от бомбы образовалась. У нас остались припрятанные топор, пила, вот мы и пошли, нарезали леса, перетягали, построили землянку.
Однажды я проснулась — а вокруг нас полынь росла, бурьян — и вижу: в нем немец лежит! Я как закричу! Таких немцев забирали подростки и убивали. Вместе с партизанами топили в болоте — где они их хоронить будут.
Другой раз мы с мамой пошли жито жать. И я как закричу: «Мама-мама, немец!» А он лег поспать в нашем жите. Куда тот немец поделся? Он же все равно до Германии не дошел. Куда им было идти?
Мы во время войны не болели, ни разу не кашлянули. Только вшей было — поразъедали всю голову. Потом уже мама какого-то дусту достала и сыпала нам на головы.
Ходили в лаптях — мама плела из лозы. Дядя был в партизанах и достал немецкий матрас, так мама сшила нам из него платьица и косынки на голову.
Есть было нечего, вот и ходили желуди собирали, сушили и толкли, потом мололи, добавляли солому и выпекали хлеб.
После того как папа вернулся, война кончилась, и стали мы строить дом.
Американцы после войны присылали гуманитарную помощь. Ну какую? Одежду в основном. То, что не годилось им, они нам посылали. А тут же нечего было надеть. Помню, нам выделили туфли на таких то-о-о-неньких каблучках. Кто их будет носить? Но в основном помощь раздавали тем, у кого родители погибли. Тем, как мы, у кого родители остались живы, тем не давали.
После войны отстроились и чтобы ничего не загорелось, стали назначать дежурных. На всю деревню была одна такая здоровая деревянная лопата. Я ночь постерегу, хожу по деревне слежу, чтобы нигде не загорелось. До утру добуду — и несу эту лопату уже следующему соседу. И так каждый дом должен был участвовать: их дежурство прошло — приносят нам ту лопату. У порога приставят — значит, она наша уже. Та лопата — это такое напоминание, что ты сегодня сторож, что это твое дежурство. Каждому передавалась: как до конца деревни дойдет — несут уже обратно. И никогда ничего не загоралось.
Школа сгорела, привезли вместо нее какой-то деревянный сарай. Кто займет место у подоконника — тот на нем и пишет. А остальные, как мы, на лавках сидели и на коленках писали. Мама нашла какие-то мешки из-под цемента, нарезала, нарезала — это было вместо бумаги. Перо было, возьмешь деревяшку какую-нибудь, перо прищепишь — так и писали, так и учились.
Как они сейчас стали уничтожать лес! Вырезают и прут, и прут, и прут! И взамен ничего не сажают.
После войны мы с папой поехали к родственникам в Минск, и чтоб вы знали, насколько город был разрушен. Одни кирпичи! Надо было Минск восстанавливать, и на это наши деревья высекали. Но аккуратно: делянку высекут, а тогда уже чистишь ее. Даже грабельками подгребала. Мелкое сжигали, а крупное шло на дрова. И мы на том месте сажали новый лес. Ходили копали ямы под сосны, потом пололи его, потом окучивали. И вот уже за семьдесят лет вырос лес.
Так его уже нет. Вырубают. Так ты посади новый на это место! У нас же скоро ни черники, ни голубики не будет. Все уничтожено. Никому ничего не надо.
Помню, в клубе кино шло, «Тарзан». Но мы в церкви были. В восьми километрах от нас деревню не сожгли, и церковь осталась. И мы, дети, через речку по мосткам утром бежали туда, мама там уже стояла… А директор как узнал, назавтра меня вызвал: «Ты! Пошла! В церковь!..» Директор вел у нас алгебру и геометрию. Я их хорошо знала, ответила ему на 4 и всё. Правда, бывало, он чего-то не знал и к папе моему приходил со сложными задачками. Папа решал, а он нам потом преподавал. До войны папа был учителем, но после войны уже не работал, прислали же новых.
Я окончила семь классов. Тогда все уезжали из деревни, и мама мне дала 10 рублей на прописку. Там, где сейчас нархоз, там деревня была, называлась Будилово. Там женщина всех прописывала (сама она жила в Степянке), десять рублей за это брала. Вот она меня прописала, жила я на квартире у хозяйки, нас там было четыре девки и двое парней. Я немного там пожила, потом нашла квартиру на Олега Кошевого, где ателье — там немцы уже дом достроили. Потом к брату подселилась, у них с женой была комната — и я на кушетке. Ну, намучилась.

Брат мой двоюродный пристроил меня на завод рабочей. А какая я рабочая: 17 лет, худая… А тогда тяжело было работать. И однажды начальник говорит: Клава, тебе не здесь работать, иди в кладовую. И я пошла кладовщицей, поступила в вечернюю школу в восьмой класс на Стахановской (там сейчас школа милицейская). Со временем стала заведующей складом, вышла замуж, дочь появилась. Мы с мужем прожили два с половиной года — и он трагически погиб на заводе. Потом я вышла замуж во второй раз — за его друга, они были из одной деревни, он меня взял с ребенком.
48 лет я отработала на тракторном заводе. До 65 лет. Контролером, контрольным мастером… Вот так жизнь и прошла.

Свадьба, 1957 год.
Как-то я рассказала родственникам про сожженную церковь. Они говорят: «Ну покажите, Клава, где она была». Я говорю: «Да вот, в 300 метрах от нас!» И мы взялись за эту церковь, расчистили. Там лишь фундамент остался. Столько мусора выгребли! Там и тракторы ставили, и коров оставляли. Там травка была хорошая, и как-то пустили теленка, а назавтра теленок сдох. Он же ходил, пачкал, а нельзя — там святое место. А еще было: устроили качели, дети стали кататься — и руки поломали. Новая церковь там сейчас никому не нужна. Если и пооставались местные, те уже няверующие, а молодые, что поприезжали, только — сами знаете — пьют и всё. В веру никто не хочет идти.
У нас в Омельно померла София Слуцкая при родах. Говорят, в старину был даже женский монастырь. Мы уже поставили крест на месте церкви, а теперь Софии Слуцкой будем знак устанавливать. Потом священнику Владимиру Хираско, который у нас служил, установим постамент [священник Владимир Хираско (1874—1932), с 1999 года в числе местночтимых святых Белорусской православной церкви. — НН]. Деньги я с пенсии откладываю. А главным занимается моего двоюродного брата сын, он художник, как и отец. Я ездила на Радовницу и увидела табличку: он вырезал, написал, что это за деревня была. Потому что много приезжих, и ничего этого они не знают.